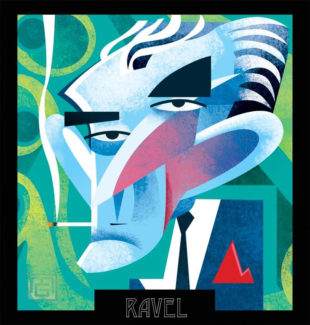 Морис Равель
Морис Равель
Кто-то из великих, кажется, Леонардо да Винчи, отмечал, что есть три разновидности людей: одни видят сами, другие видят то, что им показывают, третьи не видят вообще. Это рассуждение справедливо и по отношению к способности людей слушать и понимать музыку.
К сожалению, на протяжении всей второй половины ХХ века непосредственность слухового восприятия музыкальных произведений вытеснялась идеологическим подходом, людей приучали слышать не то, что звучит, а то, что нужно услышать в соответствии с той или иной идейной установкой. И в этом плане Морису Равелю, с его необъяснимо прекрасной музыкой и необычной (с точки зрения канонических представлений о гениях) жизнью досталось, пожалуй, как никакому другому композитору.
Чего только не прочитаешь о нем в статьях и критических заметках, благо бумага, а теперь еще и интернет, все стерпит! То он импрессионист, последователь, чуть ли не эпигон Дебюсси (уже при жизни композитора в насаждении этого мнения особенно усердствовал музыкальный критик Пьер Лало), то «горячий баскский парень», творчество которого пропитано эротизмом (как вариант – порочным либо подавленным, нужное подчеркнуть), то наоборот – холодный интеллектуал, чья музыка является плодом не вдохновения, но расчета.
Чуть ли не каждый второй пишущий о Равеле считает своим долгом сослаться на Стравинского, назвавшего Равеля «швейцарским часовщиком». Кстати, давненько я не перечитывал «Диалоги» и уже подзабыл: хотя бы один коллега Игоря Федоровича удостоился там его одобрительного отзыва, искреннего, без иронических подковырок?
Не так давно на страницах одного британского издания известный музыкальный критик объяснил публике в своем эссе, почему Равель, по его, критика, мнению, не гениальный композитор, а «всего лишь выдающийся». До великого он не дотягивает, потому что, во-первых, не стремился к открытию неизведанных путей в музыке, не то что Стравинский или Булез, а во-вторых, не отразил в творчестве драму своего времени (все игрушки у него какие-то – сказочные принцессы да говорящие бурундуки). К тому же при жизни Равель был слишком, беспрецедентно успешен. И вообще – сочинил «Болеро», которое стало мировым хитом и в течение длительного времени занимало верхнюю строчку в рейтинге самых популярных классических произведений.
Действительно, разве может серьезный композитор позволить себе пасть так низко?!
Еще один писатель, на этот раз американский, специализирующийся на биографиях знаменитых людей, поставил перед собой задачу доказать, что Морис Равель был глубоко законспирированным геем, и это, мол, очень важный момент, потому что объясняет многие «странности» в его творчестве. Не доказал ни первое, ни второе, но четырехсотстраничная книга была издана и успешно распродана.
А уж эти «провокативные» постановки «Болеро»! Изумительно оригинальное произведение превращают на сцене в пошлую историю сексуальной мании. Воистину, дело Фрейда живет и процветает.
Есть люди (и их не так мало), в жизни которых «основной инстинкт» не играет никакой роли. Равель, вероятно, принадлежал к их числу. Но с точки зрения исследователей, руководствующихся не фактами, а идеологией, любое явление в искусстве можно и нужно трактовать с позиций либо политики, либо секса. Попытки «пришить» Равелю политику, видимо, проваливаются сразу. Вот и пытаются докопаться до какой-нибудь «роковой тайны» в личной жизни композитора, сетуя при этом на его скрытность.
В письме к Жаку Зогебу, одному из своих близких друзей, Морис Равель однажды признался:
«На самом деле, моя единственная любовница – это музыка».
Но если к творчеству композитора побуждает не либидо и не идеология, да еще и музыка у него в технологическом отношении столь безупречна, что дух захватывает, то кто же он тогда? Получается – «швейцарский часовщик». Куда как просто.
 Пьер Жозеф Равель и Мари Равель (Делуар) – в более поздние годы, конечно.
Пьер Жозеф Равель и Мари Равель (Делуар) – в более поздние годы, конечно.
Жозеф Морис Равель родился 7 марта 1875 в Сибуре, маленьком городишке южной части Франции, и был плодом союза двух очень разных, но весьма решительных людей: Пьера Жозефа Равеля, уроженца Швейцарии, инженера и страстного меломана (между прочим, родного брата швейцарского художника Жана Эдуарда Равеля), и басконки Мари Делуар, которая до конца жизни писала по-французски с орфографическими ошибками.
Познакомились они в пригороде Мадрида, где Пьер Жозеф, приехавший из Парижа, занимался строительством железной дороги. Как Мари оказалась в Новой Кастилии и что она там делала до встречи с будущим мужем – неизвестно; по некоторым данным, юность ее прошла в обстановке не вполне тривиальной, во всяком случае, для женщины из старинного баскского рода (как ее характеризует Морис Равель в своей автобиографической записке).
 Сибур, наб. Мориса Равеля
Сибур, наб. Мориса Равеля
Так или иначе, во Францию Пьер вернулся вместе с Мари. В Париже они поженились, но произвести на свет своего первенца госпожа Равель пожелала на родине, и накануне родов пара отправилась в Сибур.
Таким образом, Морис Равель – баск не только по происхождению, но и по рождению.
Семья была небольшой (у Равелей было двое детей) и дружной.
Стараясь приобщить сыновей к своей профессии, отец часто брал их с собой на заводы, устраивая экскурсии по цехам и демонстрируя работу различных станков и механических устройств. Младший, Эдуар, войдя в возраст, присоединился к отцовскому бизнесу по производству автомобилей.
 Братья Равель, Морис и Эдуар в детстве.
Братья Равель, Морис и Эдуар в детстве.
А в старшем сыне отец вовремя разглядел музыкальный дар и организовал для него частные занятия фортепиано и теорией музыки. Однако приобщение к миру техники оставило в душе Мориса неизгладимый след: он был впечатлен зрелищем работающих заводов – металлическим лязгом конвейера, вращением огромных шестерней, видом извергающих дым заводских труб. Позднее, путешествуя с друзьями на яхте вдоль берегов Голландии, Германии и Бельгии, он отправит своему другу композитору Морису Деляжу открытку с такими словами:
 Модель марки «Равель», мощность 15 лошадиных сил.
Модель марки «Равель», мощность 15 лошадиных сил.
«Мы поравнялись с заводами, когда уже смеркалось. Как передать вам впечатление от этого царства металла, этих пышущих огнем соборов, от этой чудесной симфонии свистков, шума приводных ремней, грохота молотов, которые обрушиваются на вас! Над ними – красное, темное и пылающее небо. К тому же еще разразилась гроза. (…) Как все это музыкально!.. Непременно использую».
Использовал: в «Болеро».
Механизмами Морис продолжал интересовался, даже став знаменитым композитором, но относился к ним по-детски, как к игрушкам. Игрушки он, впрочем, тоже любил – кукол, заводных птичек и тому подобное. В нем, при всей остроте ума, всегда сохранялось нечто детское. Одним из проявлений этого качества Равеля была страстная, не меркнувшая с годами любовь к матери.
Мари Делуар-Равель, несомненно, была незаурядной женщиной, и если портреты не лгут, именно от нее старший сын унаследовал своеобразную внешность: невысокий рост, непропорционально большую голову, крупные уши и прекрасные темные, очень выразительные глаза. (Интересно – водятся ли в стране басков эльфы? Должны, мне кажется).
 Мари Равель
Мари Равель
Ее характер был тоже необычным – удивительное соединение в одном человеке сдержанности и вольнодумства (Мари как-то заявила, что если в раю не окажется дорогих ей людей, она без колебаний предпочтет ад), властности и мечтательности. Она в совершенстве владела испанским языком, и ее память хранила неистощимый запас сказок и легенд из рыцарского прошлого Иберии; испанские народные мелодии в исполнении матери были первой музыкой, которую услышал Морис. Испания – но не та, до которой от родного Сибура было несколько часов езды, а волшебная, воображаемая страна его детства, была настоящей, сокровенной родиной Равеля.
«Испанская рапсодия» Оркестр Тонхалле, дир. Лионель Бренгье:
В пору своего консерваторского студенчества Равель, по счастью, сумел благополучно проплыть мимо двух главных химер парижской музыкальной жизни 90-х годов: вагнерианства и отечественного романтического академизма, оплотом которого была консерватория. Ранние его работы совсем не производят впечатления ученических: отчетливому замыслу, который он долго вынашивал в своей голове, Равель всякий раз находит безукоризненно точное, адекватное воплощение. Поэтому уже в таких вещах, как «Гротескная серенада», «Две эпиграммы Клемана Моро» или «Античный менуэт» он выглядит уже сложившимся мастером со своим творческим лицом, очень изысканной техникой композицией и рафинированным вкусом.
«Античный менуэт», исп. Анджела Хьюитт:
Какая четкость композиторской мысли, какой точный отбор выразительных средств! Продуманность каждой детали органично сочетается здесь с характерной для Равеля интимной, задушевной интонацией, а ощущение твердой жанровой основы – с лаконизмом высказывания. Все эти качества и в дальнейшем будут сохраняться в его творчестве, только доведет он их до степени бриллиантового блеска.
Пытаясь рассуждать о музыке Равеля объективно, я всегда испытываю затруднение особого рода. Дело в том, что она действует на меня очень сильно, а подвергать аналитическому разбору то, по отношению к чему испытываешь чувство трепетного восторга, чрезвычайно сложно: язык немеет, мозг – в ступоре.
Возьмем, например, «Павану на смерть инфанты», фортепианную пьесу студенческого периода, впоследствии, как и многие другие сочинения Равеля, обретшую новое, оркестровое оперение. Как объяснить магию ее красоты? Я не знаю! Как можно объяснить магию «Сикстинской мадонны» Рафаэля? На нее можно только смотреть затаив дыхание. Вот и здесь то же самое – только слушать.
Поэтому, будучи бессилен объяснить феномен красоты, я скажу о другом.
Мелодия «Паваны» представляет собой высказывание, столь убедительное в своей лирической непосредственности, что у человека, не знакомого с обстоятельствами создания этой пьесы, может возникнуть уверенность в том, что она посвящена реальной женщине, юной красавице, чья безвременная кончина оставила глубокий след в душе композитора. Может быть, он был даже в нее влюблен.
 Диего Веласкес, портрет инфанты Маргариты
Диего Веласкес, портрет инфанты Маргариты
Но на самом деле никакой испанской инфанты не было. Вернее, была, но существовала лишь на портретах Веласкеса и в фантазиях Равеля, связанных с образами той Испании, которая очаровала его в детстве благодаря рассказам матери.
Умершая прекрасная принцесса Равеля– всего лишь фантом. Но какой живой!..
«Павана на смерть инфанты», Берлинский филармонический оркестр, дир. Герберт фон Караян:
В следующий, «модернистский» период, когда молодой композитор погружается в освоение современных ему новшеств – ладово-гармонических, оркестровых, фактурных, индивидуальные свойства, присущие музыке Равеля, до некоторой степени нивелируются впечатлениями от сочинений позднего Римского-Корсакова, раннего Стравинского и зрелого Дебюсси. Но даже здесь собственное «я» Равеля все равно проступает. Не случайно самой популярной пьесой из его фортепианного цикла «Отражения» становится «Alborada del gracioso», – ярко-жанровая композиция, пленяющая неповторимо-эклектичной смесью «испанщины» с музыкой кафе-шантанов.
«Alborada del gracioso», исп. Эмиль Гилельс:
Парижская публика очень быстро оценила музыку начинающего композитора, а вот академические круги – нет. Неоднократно участвуя в конкурсах на получение Римской премии, Равель ее так никогда и не удостоился. Более того, когда в 1905 году, будучи уже автором нескольких ярких сочинений, таких как «Павана», «Игра воды», струнный квартет и сонатина для фортепиано, он предпринял последнюю, четвертую попытку завоевания первой премии, жюри под надуманным предлогом отказало композитору в праве участия в конкурсе.
Это происшествие, спровоцировавшее бурную общественную дискуссию, стоило в итоге тогдашнему ректору консерватории его кресла, а Равелю доставило известность – она была с привкусом скандала, но скандала, если можно так выразиться, в хорошем смысле. Музыкой Равеля начинают активно интересоваться издатели, она широко исполняется, он получает заказы.
 Сергей Дягилев
Сергей Дягилев
В 1909 году к нему обращается Дягилев – он предлагает композитору написать музыку для одноактного балета (хореографической симфонии) «Дафнис и Хлоя».
Балет был написан и поставлен в театре Шатле, но особого успеха у публики не имел – возможно, из-за того, что уже на уровне концепции произведения устремления его создателей разошлись в разные стороны. Дягилеву, сценографу Баксту, хореографу Фокину и танцовщику Нижинскому в «Дафнисе» виделась апология античной чувственности. А Равель, по его собственным словам, задумал запечатлеть Элладу своей мечты, «близкую тому представлению о древней Греции, которое воплощено в произведениях французских художников и писателей конца XVIII века». Ну и, само собой, он попросил убрать из балета «самое главное» – сцены оргий.
 М. Равель и В. Нижинский во время работы над балетом «Дафнис и Хлоя».
М. Равель и В. Нижинский во время работы над балетом «Дафнис и Хлоя».
Разочарованный Дягилев решает создать балет на музыку «Послеполуденного отдыха Фавна» Дебюсси, и уж там-то постановочная команда оторвалась по полной. На этот раз публика была в восторге. Чего нельзя сказать о композиторе.
Но и «Дафнис» Равеля не канул в лету – главным образом, благодаря музыке. Вот где утонченно-рафинированная французская культура Дебюсси-Шабрие-Форе сливается в экстазе с буйной плясовой магией, заставляющей вспомнить Бородина, Корсакова, Глазунова! Это сходство неудивительно. В музыке русских композиторов, увлечение которой растянулось у Равеля на многие годы и даже привело к работе над оркестровкой «Картинок с выставки», он обнаружил неожиданно свежий взгляд на музыкальную современность.
«Дафнис и Хлоя». Национальный оркестр Лиона, дир. Юн Меркль:
Но, пожалуй, самым ценным сокровищем этого периода мне представляются «Благородные и сентиментальные Вальсы», созданные в 1911 году и позднее оркестрованные для балета «Аделаида или язык цветов». Сколько богатств, оказывается, по-прежнему таится в гармонии и как современно могут звучать старые добрые жанры! А кто-то будет рассказывать о кризисе гармонии…
Благородные и сентиментальные вальсы (№2), исп. Анджела Хьюитт:
С «кризисом романтической гармонии» Равель, вообще говоря, разобрался очень просто: радикально ее упростил и вернул обратно на рельсы ладовой функциональности, без которой гармония уже почти утратила свои рабочие качества. Он называл это так: «Полный отказ от обаяния гармонии ради преобладания мелодии». Добавьте сюда опору на жанровость, буквально пропитанную интонациями современной эпохи. Вот и все, кризиса как не бывало! Но ведь Равель был гений…
 Морис Равель в 1911 году
Морис Равель в 1911 году
«Благородные и сентиментальные вальсы» сразу же стали одним из популярнейших произведений новейшей французской музыки. Этот феерический взлет творческой жизни Равеля был прерван неожиданно и жестко: началась Первая мировая война.
Полагаю, что людям, находящимся в плену идеологических штампов, трудно понять, почему этот ироничный эстет, ни разу в жизни не позволивший заподозрить себя в политической ангажированности, с первых же дней так настойчиво, вопреки принципам используя все свои связи, добивался отправки на фронт, несмотря на то, что был забракован медицинской комиссией. С другой стороны, если он оказался таким патриотом, то почему же в 1916 году отправил в комитет «Национальной лиги защиты французской музыки» письмо, в котором резко возражал против требования запретить исполнение на территории Франции современной немецкой музыки?
И уж тем более непонятно, почему он, проведя-таки три года в непосредственной близости к линии фронта (Равель работал шофером грузовика сперва в пехоте, затем при военном аэродроме), наблюдая за нескончаемым потоком тяжелораненых и, наконец, потеряв на войне нескольких добрых знакомых, даже не подумал излить все пережитое в какой-нибудь «симфонии ужаса» или «трагической увертюре».
 Морис Равель в 1916 году
Морис Равель в 1916 году
Вместо этого получивший от командования отпуск по болезни Равель пишет сюиту «Гробница Куперена», посвящая каждую из частей элегически-светлого, прозрачного сочинения одному из погибших на войне знакомых. На вопрос, почему он не сделал эту музыку, в которой прочитывается не скорбь, а ностальгия по красоте и совершенству, хотя бы немного более грустной по настроению, Равель отвечал, что мертвым и без него хватает печали.
Мертвым хватает, а живым? Живым – тем более. Если уж чего и не хватало европейцам, вышедшим из огня и позора мировой войны с надорванными душами, так это веры в незапятнанность красоты и даже в самое существование оной. Равель один из немногих, кто был способен восполнить дефицит красоты в мире – редкое, даже уникальное качество для композитора ХХ века.
После «Гробницы Куперена» в творчестве композитора наступает пауза: умирает Мари Равель.
Смерть матери он переживал очень тяжело, и это усугубило проблемы с его собственным здоровьем. Еще в письмах военного периода Равель жалуется близким друзьям на странное недомогание: у него расстроился сон, периоды лихорадочного эмоционального возбуждения сменялись глубокой апатией и тоской. То были первые симптомы грозного заболевания мозга, но тогда об этом, конечно, никто не подозревал – все списывалось на тяготы прифронтового быта. И теперь, когда Равель, вконец измотанный бессонницей, был комиссован, скончалась мать, фактически у него на руках.
 Он не мог оставаться в родительском доме, не мог работать, не мог ничего. Из тяжелой депрессии он вынырнул благодаря неустанным заботам друзей и нескольким месяцам полного покоя на загородной вилле одного из них. После этого он смог вернуться к занятиям музыкой. Равеля ожидало последнее, самое счастливое и плодотворное десятилетие творческой жизни.
Он не мог оставаться в родительском доме, не мог работать, не мог ничего. Из тяжелой депрессии он вынырнул благодаря неустанным заботам друзей и нескольким месяцам полного покоя на загородной вилле одного из них. После этого он смог вернуться к занятиям музыкой. Равеля ожидало последнее, самое счастливое и плодотворное десятилетие творческой жизни.
Он совершает несколько гастрольных поездок по Европе. Временами его по-прежнему мучает бессонница и он бывает странно рассеянным. Врачи в очередной раз рекомендуют композитору отдых, но он решает выбить клин клином и в начале 1928 года совершает большой тур по городам США и Канады.
Равель был абсолютно прав: сумасшедший ритм заокеанских гастролей 1928 года его взбодрил, тем более, что концерты проходили с триумфальным успехом, Равеля всюду приветствовали стоячей овацией. Одной из приятельниц он пишет: «Никогда я еще не вел такого правильного образа жизни»!
 Морис Равель в США. Справа Джордж Гершвин
Морис Равель в США. Справа Джордж Гершвин
В результате этой поездки у Равеля появился пес по кличке Джаз и «джаз» в двух фортепианных концертах, написанных двумя годами позднее. Слушая эти произведения, поневоле испытываешь чувство трепетного восхищения. Вернувшийся из Америки зрелый мастер с детской непосредственностью и азартом начинает осваивать новую звучащую среду.
Время перевернуло очередную свою страницу, оформленным в звуках выражением новой эпохи становится джаз. И что же получается? Мы знаем, что Равель слышал «Рапсодию» Гершвина и пришел в восторг. Мы знаем, что Гершвин в свою очередь хотел брать уроки у Равеля.
А теперь послушайте – кто у кого взял уроки?
Концерт для ф-но G–dur. Исп. Артуро Бенедетти Микеланджели, орк. “Philharmonia”, дир. Этторе Грачис:
Разве не поразительна такая открытость к слуховым влияниям ? Людям, для которых «современность» и «радикализм» – синонимы, трудно понять, что могло побудить зрелого, признанного мастера заняться прививанием языковых элементов джаза к древу академической музыки.
А ведь в этом как раз и проявилось его обостренное чувство новизны. Композитора вел его собственный музыкальный слух, настроенный в резонанс по отношению к реальному времени, а не к умозрительной «современности», сконструированной в лабораторной пробирке…
 Морис Равель и Пол Уайтман, джазовый музыкант.
Морис Равель и Пол Уайтман, джазовый музыкант.
И вот, наконец, они – три заоблачные по силе воздействия и техническому совершенству вершины: симфоническая поэма «Вальс», «Болеро», опера «Дитя и волшебство». Благодаря Равелю ХХ век получил новое неопровержимое доказательство того, что в основе музыки, как и прежде, лежат три основных компонента: мелодия, функциональная гармония и опора на бытовую музыкальную культуру. Выход за рамки этой системы координат довольно быстро превращает музыку в «звуковые практики», что, к сожалению, мы и можем наблюдать сегодня.
О «Вальсе» принято писать, что в нем Равель (уж тут-то наверняка!) выразил трагедию гибнущей цивилизации прошлого. Хоть убейте меня – никакой трагедии я там не слышу. Думаю, даже уверен, что повод к такой трактовке этого сочинения комментаторы берут из краткой автобиографии, которую композитор надиктовал для пластинки одной звукозаписывающей фирмы своему бывшему ученику, а впоследствии биографу Ролан-Манюэлю.
Равель говорит там, что задумал это произведение как апофеоз венского вальса, в котором, по его ощущению, все перемешивается в кружении, фантастическом и роковом. Вот из-за этого-то слова – «fatal» и возникает соблазн, особенно в переводе, трактовать идею этого сочинения Равеля как поглощение мирной эпохи, когда на балах танцевали вальсы, неким сметающим все смертельным и сокрушительным вихрем. Вот, дескать, наивные танцульки, а вот – «сокрушительный вихрь» Мировой войны. Извольте, дорогая публика, услышать именно это.
Лично мне тут слышится сытое некрофильское урчание, причем не Равеля, а комментаторов. При этом слова «апофеоз венского вальса» как-то ускользают от их внимания.
Между тем, рассуждая о симфонической поэме Равеля, нельзя забывать о двух важнейших обстоятельствах. Во-первых, идея этого произведения зародилась, по словам композитора, еще до сочинения «Испанской рапсодии», то есть – внимание! – ранее 1907 года! Какие смертельные катастрофы, помилуйте? А во-вторых и в главных, Равель вообще любил танцы, и вальс был ему особенно близок. Это следует не только из большого количества написанных им вальсов, но и из того, что вальсовые ритмы во множестве рассыпаны по его сочинениям разных лет.
На музыку Равеля не зря было поставлено столько балетов: он действительно мыслит пластически. А пластика в музыке – это танец. Иногда – жест. Для Равеля чувство и мысль – не пребывание на месте в состоянии раздумья, а порыв к движению, выражающей себя в танце, полетном и томительно-прекрасном. Вальс как состояние души.
«Болеро»… Ни одно из классических сочинений для оркестра не подвергалось такому потоку спекулятивных измышлений, как это. Разве что Шестая симфония Чайковского.
Излюбленная трактовка «внутреннего» сюжета Болеро современными балетмейстерами – кто бы удивлялся! – сводится к демонстрации вырвавшейся на свободу маниакальной похоти. Вообще-то, с таким же успехом можно увидеть там борьбу порабощенных классов с эксплуататорами. Нет ничего отвратительнее пошлости, рядящейся в одежды интеллектуализма. Опять-таки, я призываю прочитать, каким виделось сценическое воплощение «Болеро» самому Равелю. Ну или… подождите моего эссе, отдельно посвященного этому великолепному произведению: я обязательно его напишу.
Начало 30-х годов – Равель в зените славы. Он живет в Монфор-л’Амори в собственном доме, который купил и оборудовал по собственному вкусу, получив наследство от скончавшегося в Швейцарии дяди-художника. Дом-игрушка, причем дорогая. Там часто бывают друзья, и композитор чувствовал бы себя совершенно счастливым, если бы временами на него не нападала странная рассеянность, и тогда ему бывает трудно сконцентрировать свое внимание. Иногда он даже путается в словах. Тем не менее, Равель полон новых замыслов, собирается приняться за крупное сочинение, посвященное Жанне’Арк. И тут – несчастье: в 1932 году Равель попадает в автомобильную аварию и получает сотрясение мозга. Травма была незначительной, но она оказалась тем камешком, который сдвинул уже нависшую над пропастью лавину.
Следующие пять лет являют собой медленный, но неумолимый разворот трагедии. Точный диагноз болезни Равеля не известен, хотя над его установлением работало немало медиков, уже после смерти композитора. Вначале ему изменяет двигательный автоматизм. Он не может больше плавать, не может играть на рояле и записывать музыку, которая – в этом весь ужас – продолжает рождаться в его голове и настойчиво требовать выхода.
В 1933 году он еще дирижирует. Но уже не может подписывать фотографии – а ведь его постоянно об этом просят. Затем он постепенно утрачивает связность речи. Встревоженные друзья, среди которых Ида Рубинштейн, организуют для него поездку в страну его мечты – Испанию. И в Марокко тоже. Равель путешествует не один, друзья сопровождают его, делая вид, что все в порядке, что это просто очередное веселое путешествие.
Ида Рубинштейн: гениальная бунтарка
Увы, все далеко не в порядке, и Равель полностью отдает себе отчет в происходящем с ним.
Вскоре он перестает выступать и бывать на людях. Его монфорский сосед и друг последних лет писатель Жак де Зогеб, потрясенный зрелищем медленного, мучительного угасания еще недавно сверкавшей личности, рассказывал после смерти композитора:
«Дождь ли, ветер ли, снег ли — каждый день, с пяти до восьми, я приходил к Равелю. Едва лишь раздавался звонок, этот полубог, израненный музыкой, подходил к двери. Неверными и отрывистыми движениями он силился отодвинуть засов. Затем он звал мадам Ревело (экономку – А. Т.), и после проклятий, перемежавшихся с отчаянными криками, дверь наконец отпиралась. Тогда лицо Равеля успокаивалось. Я брал его за руку, и мы переходили в серо-красную гостиную. Я садился на диван, а он ложился на кушетку, откуда были видны блестящие металлические кровли и сады Монфора — кусок леса посреди леса.
И начинались однообразные расспросы. «Как ваши дела?» – Плохо.
– «Хорошо ли вы спали?» – Он отрицательно качал головой. – «Хороший ли у вас аппетит?» – Он отвечал: «Да». – Удалось ли вам немножко поработать? – Он меланхолично мотал головой, и слезы застилали его карие глаза.
– Почему это случилось со мной? – говорил он. Ну почему?! – И, после некоторого молчания: – Я ведь написал неплохие вещи, не правда ли?
Я ободрял его, как только мог, словами о его творчестве, которое было бриллиантом чистой воды, бросавшим вызов разрушительной силе времени…»
 1935-й год
1935-й год
В 1935 году Равель отправляет письмо одному из друзей: чтобы составить эту короткую записку с соболезнованиями по случаю смерти его матери, Равелю понадобилась неделя, да и то с помощью словаря, в который он был вынужден глядеть, чтобы копировать изображение каждой буквы (орфографию при этом он помнил превосходно). Вскоре Равель полностью утрачивает речь.
Два года глухой стены между ним и миром, два года отчаяния, два года звучащей внутри него музыки, которая – он это знает – уже никогда не найдет своего воплощения в нотах.
В 1937 году после бесполезной операции на головном мозге он уходит совсем.
Много страниц написано о «закрытости» Равеля, о примате рассудочного над чувственным в его творчестве. Я никогда не мог этого понять. Сам он говорил:
«Совсем не обязательно рвать на себе рубаху, чтобы показать, что у тебя есть сердце».
Его музыка естественна, открыта, непосредственна, тепла, трепетна, красива. И, судя по письмам, Равель был прост и добр. И не скрывал никаких скелетов в своих шкафах (в стиле art déco, любовно подобранных для него скульптором и дизайнером Леоном Лейрицом).
Просто он – другой. Может быть, все-таки отчасти эльф? (Кстати, кто сказал, что любовником музыки способен стать обычный человек?). И если представить себе, что это так, тогда становится понятным использование почти непостижимых для нас музыкальных технологий для того, чтобы… с детской, наивной любовью выразить в двух аккордах сокровенную сущность драгоценного слова «мама».
«Дитя и волшебство». Берлинский филармонический оркестр, дир. Саймон Рэттл:
У меня не поднялась рука вырезать аплодисменты, ибо, со слезами на глазах, должен сказать, что это самое пронзительное и неподражаемое по оригинальности окончание оперы во всей истории музыки.
Андрей Тихомиров
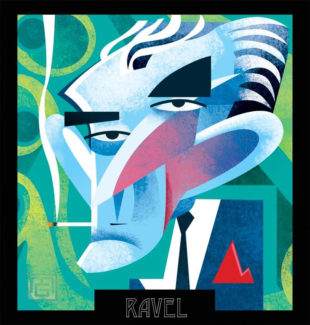
Об авторе